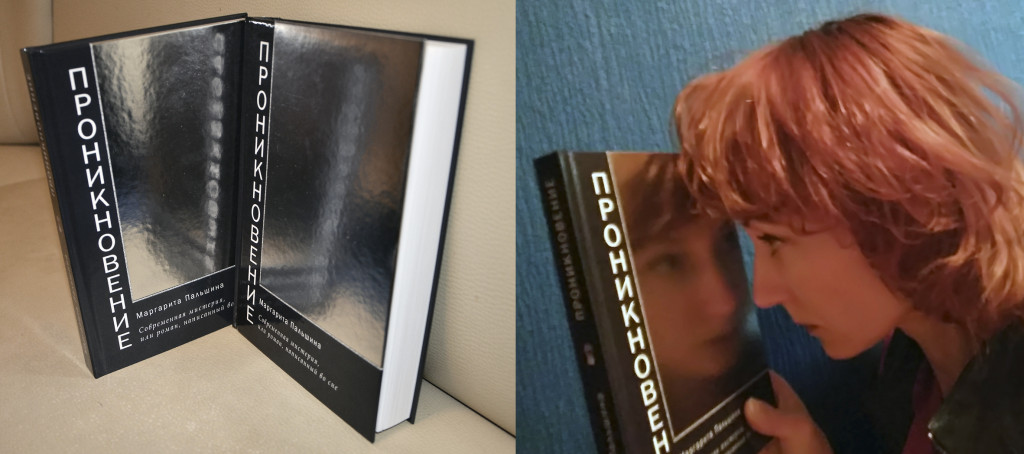Современная мистерия, или роман, написанный во сне…
Посмотреть на героев романа >>>
отрывки из романа
Картина вторая:
«ПОКОЙ НАД МОРЕМ» (пейзаж)
Эпизод 2. Башня
♦
Небо струится молочной белизной сквозь маленькое оконце под потолком. Солнца не видела много дней. Или лет? Темнота сменяется тусклым светом. Тишина остаётся неизменной. Запахов тоже нет. Трудно определить время без мерного хода стрелок. Не выцарапывать же полоски на стене башни. То, что я – в башне, поняла сразу. По ночам она качается из стороны в сторону от ветра, как корабль или дерево. Стены дрожат под рукой, как взмыленные кони. И не долетают городские звуки. Ощущение высоты на верхушке тонкого шпиля. Не помню точно, когда меня сюда привели. Помню, как солнце било в глаза на площади, а потом – тёмные коридоры, винтовые лестницы, и чьи-то сильные руки тащили вперёд и вверх. Хочется услышать тиканье часов: тик-так, тик-так, тик-так. Быстрее, быстрее, быстрее. Но минуты здесь растягиваются на месяцы, а пространство искривляется. Не земля, где стареют раньше на последних этажах. И всё-таки чувствую, где север. Могу с закрытыми глазами указать на Полярную звезду, потому что родилась на севере. Важно знать, где дом, даже если его нет на картах, а меня давно нет на земле.
В тюрьме человек должен бы вспоминать свои дни и жизни, победы и поражения, любовь, ошибки, обиды, грехи. Каяться и прощать. Раскладывать своё время по полочкам: достиг, обрёл, познал, не успел, потерял. Или хотя бы жалеть себя и мечтать о ком-то далёком. А я хочу кофе. Тот, что продавали на станциях поездов в пластиковых стаканчиках. Усталость измученной кофе-машины, бодрящий пар нетерпения, билет в новую жизнь, азарт, страх и радость, печаль расставания – море эмоций внутри маленькой согревающей руки ёмкости. Обжечь губы и горло первым жадным глотком, добавить немного сливок и подождать, пока чуть остынет, чтобы пить медленно, длить горько-сладкое и густое его послевкусие. Наваждение какое-то! Однажды выпила аж пять чашек кофе на платформе Сен-Дени, когда села не в тот поезд и ждала обратный[1]. У вокзального кофе вместо вкуса предвкушение. Дома пьёшь кофе, мысленно планируя предстоящий день. Жизнь похожа на поезд – предрешённый маршрут из точки А в точку Б. Отстал от него – и не знаешь, что будет дальше. Цель видна в пути. Остановка же – раздвоение личности во времени и пространстве, как на вокзале: ты ещё не там, но уже не здесь. Сидишь на перронной скамейке, и само ожидание отрицает бег времени. От мысли «Что если станция – проходная, и поезда жду напрасно?» холодеет позвоночник. Может, настоящая жизнь и есть приключение, дорога без карты? Выпадение из реальности? А жить – значит просто быть где-то, когда-то, не задумываясь о том, как живёшь? Когда всё, что окружает снаружи, важнее того, что сберегла внутри? Когда отстаёшь от жизни, но обретаешь себя?
Я побывала во многих городах, заглядывала в другие времена и эпохи, смотрела чужие сны. В моей голове хранятся сюжеты судеб, по которым впору снимать кино. Но сейчас болтаюсь на вершине пустоты и отчаяния, а воспоминания – мелкие, как глотки кофе. Не вспоминаю ни Арно, ни Киру и Ульвига, ни мои статуи на песке – наверняка их разрушит ветер. Кажется, не было ничего, никого, никогда. Судорожные глотки из пластикового стаканчика.
В конце апреля – начале мая, зимы на Белом море по-разному суровы, трещал и вставал на дыбы лёд. Держалась у кромки из последних сил, сгибаясь от пронзительного ветра, ждала, пока вода не вырвется сквозь трещины тёмными языками, не сбросит старую кожу. Чувствовала в такт, словно ещё немного и сердце лопнет от напряжения, и сама растекусь волнами. А в середине лета днями бродила по улицам, где каждый год умирали дома, и время цепенело в солнечных полосках меж ними. Люди побежали из города задолго до того, как его стёрли с карт. В одном заброшенном подъезде во всю стену кто-то нарисовал стаю фламинго у озера. Помню их горбатые клювы и ярко-розовые перья, но не глаза ангела с картины. Меня преследуют запахи: кавказских яблонь в цвету от побережья и до подножий гор – сотни километров белого приторного благоухания, талого снега в горах, влажной пыли пражской брусчатки перед грозой. И первого полёта на самолёте! Острая, специфическая смесь герметика, авиарезины, пластиковых покрытий и керосина. «Чем тут пахнет?» – спросил мальчишка отца. «Опасностью», – ответил тот. У меня появилась привычка не переодеваться после приземления до утра: старый мохнатый свитер впитывал небо, и я могла дышать им, носить с собой. Дожди обновляли его аромат. Шерсть намокала и снова пахла самолётом. Ночью заходила погреться в кафе с высокими окнами, где подавали малиновый ром. Пила, а потом доставала ягоды со дна бокала коктейльной трубочкой и ела. Свежую садовую малину с вязким привкусом рома. Как-то раз в кафе залетел светлячок и долго мигал в полумраке под потолком. Почему вспоминаются такие мгновения? Красивые, но незначительные. Вспыхивающие светлячками в темноте, звёздами на дне колодца. Башня – колодец наоборот. Хочется выйти на свежий воздух! Услышать чей-нибудь голос! Кричать во всё горло:
– По-ка-жи-те мне не-бо!!!! Настоящее!!! Синего цвета!! Без границы окна!
Бесполезно. Здесь и эха нет. Вакуум. Стены поглощают звуки.
– Кто-нибудь!
Тишина режет слух.
– Как насчёт прогулки для заключённых?
Дверь приоткрылась. Неужели услышали?
– К вам посетитель.
– Аморген!
Прыгнуть на шею, обнять! Живое тепло! Но не могу пошевелиться, протянуть руки.
– Как ты попал сюда?
– Твои друзья скинулись на визит.
– Садись на диван, поближе. Звуков нет, придётся читать по губам.
– Хорошо устроилась! Диван, ковёр на полу. Пятизвёздочный отель! Телевизора не хватает.
– Телевизор у меня в голове. Мысли, мысли, мысли… сводят с ума. А в остальном – да, неплохо. Не хуже, чем в городе. Есть хочешь? Можно подёргать дверную ручку, охранник заметит движение и принесёт эфир.
– Эфир?! Тебе дают эфир?
– Да. Рыба, мясо, овощи, алкоголь. Всё, что хочешь. Диван поставили, валяюсь на нём целыми днями и смотрю в окно под потолком. А по ночам приносят свечи.
– Невероятно!
– Дорого. Заложила им лодку, лисью шубу, пару колье. Почти всё, что заработала на статуях для фонтанов. Хватит продержаться до тех пор, пока… Вы же поможете мне? Вытащите меня отсюда! Я укажу вам путь в гавань.
– Постараемся. А ты всегда умела торговаться.
– Я всегда умела выживать. Раньше думала, деньги – земной бог, но теперь вижу, они повсюду, где есть люди или их подобия. Камни, слитки, монеты, бумага, эфир… Человек молится «золотому тельцу» и в раю, и в тюрьме, и в аду.
– Я не молюсь.
– И голодаешь. Скоро растворишься и завоешь, как дух.
– Не самая злая судьба. Ладно, не будем спорить. Ты сказала, мысли. Вспомнилось что-нибудь?
– Светлячки.
– Что?
– Ерунда всякая.
– Плохо. Город – место, где замыкается круг. Здесь кто-то теряет себя, а кто-то находит. Можно забыть, а можно вспомнить все свои жизни. Путь атланта.
– Путь атланта! Из предыдущих жизней вспоминается не больше, чем из только что пройденной. Вокзальный кофе. Малиновый ром. Ты был прав, у нас одно предназначение, одна роль на всех. Ощутить вкус жизни, понять, как прекрасна Земля. И всё. Что бы ни делал, вся жизнь уместится в паре жалких кадров.
– Невозможность вспомнить, куда шла, не доказывает, что дорога никуда не ведёт.
– Чёрт с ней, с памятью! Соглашусь всё забыть, чтобы начать сначала и сбежать отсюда на землю. Жить и правда красиво! Единственное, чего мне по-настоящему жаль, – статуи на песке. Хотя кому нужен песок?
– Песчаную косу срыли. Лучше пожалей разрушенные лица фонтанов. Настоящее искусство стремится переделать мир.
– Может быть, отразить?
– Нет, переделать. Но перед тем как размахивать флагом на баррикадах, нужно перестать его потреблять. Бунтарь должен быть голым, голодным, безработным, бездомным и одиноким. Независимым. Тогда он не врёт. А если нравится то, что делаешь, и мир тебе воздаёт, если любишь в нём и любима, то не пробуй его переделывать. Ты – в башне не за революцию, а за подлог. Продолжить? Всё это значит не быть.
– Ну нет! Не желаю превратиться в духа. Тоже мне перспектива – вечно пугать чаек над каналами. Тоскливая, как любовь.
– При чём здесь любовь?
– Любовь похожа на духов. Тот же туман. Осень, растворённая в весне. Предчувствие трагедии на пике счастья. Двуликая радуга. Мало кто её видел, никто не знает, существует ли на самом деле. А те, кому выпала, не могут достойно её прожить – трудно удержаться на радуге. Если внутренний свет совпадает в спектре цветов, то может статься, что на миллиардной Земле таких родилось всего двое. Адам и Ева в каждом поколении. Они никогда не отыщут друг друга в потоке лиц. Цветов и оттенков – миллиарды, и человеческий глаз урезает палитру круга. А ещё есть мелодии и ароматы душ. Вероятность встречи близка к нулю. Люди обречены принимать за любовь иные чувства, искать и не находить и где-то глубоко внутри знать об этом. Если же Бог разлит в нас поровну, то в любом он белого цвета. Мы все – одинаковы душами, на цвета преломляемся случаем, как стеклом. И одни люди любят нас синими, а другие жёлтыми или зелёными. Поэтому и кончается всё так быстро: стекло случая бьётся легко. Грустно думать об этом! Безысходность какая-то.
– Понимаю. Абстракция – безысходна, как её ни крути. В тюрьме лучше думать о чём-то конкретном, а то недолго сойти с ума.
– О чём, например?
– О прошлом. Или попробуй вспомнить будущее. Вдруг получится.
– Я продала всё, но не ангела. Будущее мне недоступно.
– Будущее складывается в настоящем, как и прошлое. Понял, когда разглядывал твоих янусов на площади. Уродливых, если смотреть против солнца, и прекрасных, если оно за спиной. Всё зависит от точки обзора. От перекрёстка, где готовы свернуть. Ангелы видят все возможные дороги, но не знают, какую из них выберем мы. Будущее – многоликая мозаика, множество картин в одной, где цветные кубики стёкол – наши шаги. Как переливающиеся календарики из твоего детства: картинка зависит от наклона. Будущее – отражение прошлого.
Прошлого? Слова застревают в горле, не знаю, как сказать, как спросить. Его губы всё ближе. Размахнуться бы и ударить изо всех сил! Разбить в кровь.
– Ты знал, что оно у нас было общим?
– Да.
– И хватило наглости промолчать?!
– Хватило такта не вмешиваться в твою жизнь.
– Ты никогда и ничего не договаривал до конца. Ждал. Чего ты ждал? Необратимости? Пока нас не выкинет за край, где земная жизнь невозможна?
– Зачем рассказывать человеку то, что он вспомнит сам, но иначе?
– Я и вспомнила. Париж. 1910-й…
– 1915-й.
– Хорошо, 1915-й. Мы жили на Rue La Fayette – район перекрёстков и треугольных домов. Мы жили втроём. Ты был женщиной, высокой и пышной. Я была мальчиком балетного телосложения, с таких древние греки ваяли свои статуи. Альберт был бисексуалом, богатым и умным…
– Альбертом звали моего брата в другой жизни в Лондоне. Он тоже знал и хранил своё имя от рождения к рождению, как и Ульвиг.
– Да?
– Предпочла бы не знать об этом?
– Хватит прятать от меня моё время! Я имею право знать!
– Тогда вспоминай. Но помедленней, трудно читать по губам. Нервничаешь – дрожат.
– Мы любили его. Он любил красивые вещи. Я был скульптором, лепил странные фигуры из треугольников, стремящихся к равновесию квадрата или прямой. Альберт один понимал, мог видеть их суть, готовил мне выставку. Мы с тобой ненавидели друг друга: самые страшные войны ведут за любовь. Ты забеременела. Он не хотел ребенка, но вы решили пожениться. Выбор между статуями и детьми делают в пользу детей. Я шагнул из окна. А что мне осталось? Сволочь ты! Я так и не закончил лучшую статую – Януса. Возненавидел всех женщин. Там, в зелёной комнате, где раздают ответы, ползал по полу, рыдал, размазывал по лицу слёзы и сопли, просил вернуть его. Но мне сказали, что он не вернётся на землю. Тебя не было за зелёными шторами, тебе, вероятно, снился зал ожидания в аэропорту или на железнодорожном вокзале. Тебя мне вернули. Мужчиной. Тебя лишили женского дара, меня сделали красивой, лелеющей женскую суть. Нас выбрали друг для друга, чтобы прекратить вражду.
– Нет причин для вражды. Альберт никогда тебя не любил, не имел гомосексуальных наклонностей. Но видел в тебе своё отражение. В твоих треугольниках, стремящихся к равновесию квадрата, вспоминал «восьмёрки» своего предыдущего рождения – знаки бесконечности. Мы с ним не были счастливы. После твоего падения он пробовал рисовать сам, а потом ударился в поиски картины с ангелом и бросил нас. Ребёнок вскоре умер от пневмонии. Я осталась одна. И тогда появились Псы – преградить Альберту путь к тайне под слоями краски. Мы оба увидели яркий свет. Он ушёл навсегда, а я вернулся на землю, в современный Лондон. Мать отказалась от меня в роддоме. Псы нашли и вырастили меня, а когда достиг совершеннолетия, выбрали тринадцатым. Хранителем библиотеки Храма Сириуса. В одной из книг наткнулся на описание обряда проникновения, сделки с ангелом. Никто из братства не пытался ни отговорить меня, ни помешать. Им было известно о последнем рождении. Так я утратил надежду. Вспомнил прошлые жизни и будущее, но не то, что ждёт за границей света.
– У меня тоже многое отняли! Всегда тянуло прикасаться к вещам, закрывала глаза и улавливала их контуры, чувствовала фактуру и цвет, как будто пальцы постигли тайну, поймали искорку волшебства. Мечтала создавать фигуры, но как резать мрамор вспомнила здесь, после жизни! А зачем? Оживлять камни мёртвого города?
– Если они не заметят, не разрушат хотя бы одну разноликую статую, путь в гавань будет доступен не только избранным. И те, кто любил, страдал, совершал открытия, сохранят память об этом. Иные воспоминания стоят вечного возвращения.
– И куда ты хочешь вернуться?
– В Афины. В ночь, когда опоздали на самолёт.
Улыбка тёплая, как объятие. Положить бы голову на плечо, заснуть рядом. И пусть сон не кончается! Но сны сюда не заглядывают, здесь они не сбываются. Свет в окне – чёрное серебро. Вечереет. Охранник осторожно поставил свечи у изголовья и поспешил уйти. Наши тени на стене – отражения в каменном зеркале.
– Бродили по Акрополю в окружении богов, титанов и торговцев. Сколько разноцветных браслетов ты тогда накупила! И надев их все, походила на жрицу. Красный закат и самая долгая ночь. Сидели в саду на крыше[2] и пили вино.
– Да, было жарко. Надеялась, ночь остудит город, но асфальт до утра плавился под ногами.
– Помнишь, как купались в фонтанах?
– А почему мы не сняли номер? Аншлаг в гостиницах или не хватило денег?
– Ни то, ни другое. В ту ночь мне хотелось побыть тобой.
– Бездомным?
– Да. Лишившись завтра, понял время: непреходящесть преходящего. Никогда не чувствовал себя поэтом так остро. Словно ни до, ни после поэзии вообще не было.
– И сейчас тоже? Духи любят твои песни. И я. Жаль, не сыграть здесь на флейте!
– А ты читай по губам.
Поцелуй был горько-сладким на вкус, как остывший кофе со сливками.
♣
– Чувствую, твой ангел жив. И он ищет тебя, – сказала Маугли на прощание.
Ангел сидел на перилах моста, покачивая ногами, и смотрел в воду. Грязные крылья, стелившиеся по камням, высветлила луна. Он явно кого-то ждал. Кого? В этом жалком районе даже статуи в фонтанах снесли не все, бросили за ненадобностью: сюда на аркане никого не затащишь. Район узких улиц, стен, дышащих плесенью, и мостов, лежащих на воде. Логово духов и тех, кто, как я, ни на что не годен. Иногда мне везёт, играю на флейте возле ресторана, и посетители просят открыть окна – послушать. Тогда хозяин в конце дня оставляет мне склянки с эфирами хлеба, сыра и красного вина под дверью. Я как раз шёл ужинать в дом внутри моста. В городе не спят и не знают усталости, здесь многое ощущается иначе, чем на земле. Но надо же где-то жить! Сохранившаяся человеческая привычка, глупая привязанность к месту, куда возвращаешься каждый вечер. До меня внутри моста, вероятно, жил смотритель каналов: они предупреждают о начале наводнения. Мосты для смотрителей строят больше и крепче других, но полыми. Забираться неудобно: по скользким ступенькам, почти из воды. Выпрямиться в полный рост не получится, но сидеть уютно. Можно укрыться от дождя, а в ясную ночь сквозь круглое отверстие в стене разглядывать картины лунных бликов на глади канала. Луна – хороший художник, никогда не повторяется, никому не подражает. Когда обнаружил мост, дом над водой был давно заброшен: дверь прогнила, на полу – песок и жухлые листья. Где сейчас его хозяин? Вернулся на землю или превратился в духа?
Ангел уже спустился с моста и топтался на ступеньках. Ошибся дверью? Подойдя вплотную, понял, что ошибся сам. Крылья, взъерошенные ветром, вблизи обернулись полами старого плаща. Альберт! Я и забыл, как мы похожи! Брат, моя точная копия, а вернее, я – его: он же старше. В детстве нас сравнивали, как снимок с негативом: его русые волосы с моими тёмно-каштановыми, его серые, бесцветные глаза с моими чёрными, без радужки. Черты лица и стать – как у близнецов, но разная масть.
Молчание затянулось. Альберт заговорил первым:
– Я не виню тебя ни в чём, Аморген. Тайну времени необходимо беречь от смертных. Ты – хранитель и не мог нарушить закон.
Пригласил зайти. Сели на полу по обе стороны от круга окна, поровну разделили эфир.
– Почему ты здесь? – спросил его.
– Лабиринт города и есть Спираль, куда уходят человеческие чувства, мысли и облик, а время и пространство сжимаются в точку. Место, где не снятся сны, – пустота. И вы наполняете её грёзами наяву. Создаёте дни и ночи, времена года, луну, солнце, ветер, деревья, город, друг друга… – всё, без чего не можете представить жизнь. Иного образа, чем воспоминание о ней, у вас нет. Но воспоминания истощаются. И вы наполняете их фантазией: питаетесь эфиром, нагромождаете углы в домах, строите фонтаны под дождём. Ваши ночи то пролетают за мгновение, то тянутся месяцами. С последней фантазией исчезаете и вы. Кто-то поднимается на борт кораблей, а кого-то волна поднимает к свету.
– После пробуждения надеялся, что город – тюрьма для взломщиков и есть выход. Освоившись в лабиринте, что конечную удастся превратить в станцию ожидания, в железнодорожный тупик. Мечтал остаться здесь навсегда. Но теперь вижу перед собой смерть.
– А Псы когда-то поступали иначе со взломщиками? Желали исследовать лабиринт? Вас заперли в нём. Путь туда и обратно открыт для избранных. Ты должен был знать, за кем идёшь.
– У меня не было выбора. Не мог отпустить Маугли с ними одну.
– Выбор всегда есть. И на конечной станции у последнего рождённого тоже.
– Какой? Нельзя отвернуться от света.
– Однажды, ещё при жизни, я ощутил его притяжение. Проснулся утром, распахнул шторы и… яркий белый свет хлынул в комнату. На секунду ослеп. Когда зрение вернулось, мир вокруг сиял разноцветными осколками радуги. Словно был создан из тонких слоёв прозрачного стекла или слюды, преломляющих и отражающих свет. Я перестал быть собой: тело пронзали миллионы осколков, чувствовал окружающую реальность в себе так глубоко, что не мог ни думать, ни двигаться. Всякое живое существо на земле отделено от мира плотной оболочкой, мою же оболочку проткнули такое количество раз, что плоть исчезла, и мир лился внутрь, а я растворялся в нём. Мельчайшие грани света уничтожили, стёрли мои границы. Наслаждение с привкусом боли. Слияние с вечностью. Говорят, кто испытал подобное, обречён до конца своих дней искать путь к свету. Бабочки летят на свет и сгорают.
– Светлячки мигают в темноте, как маяки.
– Но не видят собственный свет. Вопрос в том, чем жертвуешь ты.
Захотелось вдохнуть вина, но склянка с эфиром опустела. Альберт вложил свою мне в руку.
– Мне не нужно, – сказал он.
Взглянул в лицо брата: на нём проступил странный рисунок – стены за спиной. Стена просвечивала сквозь лицо и тело! Альберт сам был прозрачным, как стекло.
– Да, – подтвердил он, – я – один из твоих благодарных слушателей у мостов.
– Ты выбрал участь духа!
– Я выбрал свой вариант вечности. Попав в лабиринт, тоже искал выход. Сыны Змея приютили меня. Они же открыли мне суть картины. Ангел, отрезающий крылья, – символ жертвы. Помнишь, в детстве нам подарили часы со стрелками, бегущими назад? Это не шутка о вечной молодости, а змей, глотающий хвост, – символ, встречающийся в древних книгах. Смерть вращает колесо жизни. Сыны Змея знают его тайну: как повернуть вспять реку времени. Можешь плыть против течения, но всегда вниз. Ангел теряет бессмертную суть, чтобы стать человеком – на ступеньку ниже. Используй своё право выбрать иную форму бытия и освободишься.
– Тогда вернусь на землю птицей.
– Совой! – расхохотался Альберт. – А люди сделают из тебя чучело. Не всё так просто. На моей картине изображена восьмёрка, а не круг. Проникновение миров энергии и материи. Переверни карту. Падение в материю ангела отражается в зеркале вечности как потеря человеком своей «внутренней империи»[3]. Твоя сделка – сделка ангела. Он, твоя высшая суть, видел дорогу и её конец и решил пожить напоследок. В тебе. Отделиться от мира твоей плотью, ощутить и понять его не как психофора, а как участник событий. А что получил ты? Откровение. Тяжкий груз прошлого. Неужели думал, что, шагнув за край, обретёшь веру?
– Вера – лекарство от одиночества. Я искал кого-то очень близкого рядом. Бога. Думал, знание заменит мне веру.
– И познал неотвратимость смерти. Мой бедный брат! Но не торопись уходить в свет. Если твоё высшее «я» покинуло его ради земли, то и тебе не стоит туда стремиться.
– А что ждёт меня, если пойду за тобой?
– Жизнь. Но чужая. Духи снятся живым. Пока хранится моя картина, могу возвращаться на землю во снах тех, кто помнит обо мне. В них теплее, чем здесь, поверь.
– Ты – великий художник. Но кто помнит меня?
– Сделка последнего рождения открыла все твои жизни – из века в век. Их сотни. На шумной вечеринке невозможно остаться никем не замеченным. Всегда найдётся тот, кто запомнил, как смущённо улыбался парень за угловым столиком, что бормотал в ответ на вопрос «Как дела?». И в подробностях вспомнит, как у тебя обстояли дела. На земле немало людей, кто думает о тебе. А пока живые видят сны, духи – бессмертны.
– После всего, что ты рассказал, сомневаюсь, была ли сделка. А вдруг эти жизни мне снились? Ты был мне и братом, и любовником, и врагом. На земле мы часто встречались, но здесь ты мне брат. Почему?
– Духи вынуждены менять облик во снах живых, но в пути меж ними вольны его выбирать. Ты хотел видеть брата.
– Я должен помнить все жизни, но не помню первую, в Гиперборее.
– Гиперборея – миф. Виной всему северный ветер, – нахмурился Альберт и попросил: – Сыграй мне на флейте.
Не знаю, кто посылает мне ноты музыки и слова песен. Но флейта моя печальна. Не поёт, а плачет. Точно оплакивает то, что могло бы, но не сбылось. Флейта – древнейший музыкальный инструмент на земле, первой из них более сорока тысяч лет. Первобытные люди вокруг костра слушали мелодию ветра. Флейта – голос седого времени.
Брат заговорил нараспев, как читают саги:
– В Лондоне далёкого 1783-го злой Борей срывал черепичные крыши, швырял в окна капли дождя, сеял болезни. Я читал тебе, пятилетнему, древние мифы. Тебя лихорадило, а в постели могли удержать только книги: они – лучшие путешествия. Ты повторял за мной:
«Я – ветер на море,
Я – волна в океане,
Я – искусство мастера,
Я – слово знания,
Я – копьё, что начинает битву,
Я – тот, кто возжигает в человеке пламя мысли…»[4]
Ты уже ребёнком верил в слова, а не в то, что они называли, скрывая суть. Повзрослев, стал сочинять. При посвящении выбрал имя поэта – поэзия вела тебя из жизни в жизнь. Вручил судьбу легендам. Нёс людям огонь, как Прометей, гнал по небу колесницу Гелиоса. Перед глазами всё плыло и горело, мысли и образы сплетались в причудливые фигуры калейдоскопа снов. Лабиринта без входа и выхода, где непонятно, кто ты и откуда. Твои жизни были стихами, мёртвыми символами снов и картин. Частью мифов.
– «Странник, конечно, бывают и тёмные сны, из которых
Смысла нельзя нам извлечь; и не всякий сбывается сон наш…
…Сны, проходящие к нам воротами из кости слоновой,
Лживы, несбыточны, верить никто из людей им не должен»[5], – вспомнились строчки тех дней.
– Да. Ты – в башне, как и Маугли. В башне из слоновой кости[6]. Сомневаешься в своей памяти, потому что не прожил ни одной жизни до капли. Пропускал мимо любовь, счастье, азарт, никогда не ставил на карту всё, что имел. Чувства запирал в строки. Брезгливо отворачивался от мира, как от моря распада. Вдохновение черпал в одиночестве. Смотреть на облака и картины тебе было приятнее, чем на лица людей. Твоя поэзия была настолько оторвана от реальности, что превратилась в «игру в бисер»[7]. Идеальные слова, чистые ноты. Звенящие, как хрустальные шары. Но искусственные и холодные. Всё живое гниёт и разлагается, но греет. В этом смысл. Нельзя при жизни уйти в свои сны, невозможно создавать поэзию ради гармонии слов. Не получится переделать мир, нужно его принимать. Целиком и таким, как есть. Объяснять придётся языком символов, иначе не поверишь.
И Альберт извлёк из рукава плаща поочерёдно седьмую и шестнадцатую карты Таро. Колесница и падающая Башня. Неразлучная пара, двуликие символы.
– Фаэтон нёс огонь замёрзшим звёздам Борея, возомнив себя равным отцу, но не смог справиться с его солнечной колесницей. Иллюзии – причина падения Башни. Постарайся отделить свои жизни от мифов и найдёшь путь в лабиринте, а возможно, и выход. Мифы – кривое зеркало мира. Создают смыслы и разрушают. Но суть, сокрытая под слоями масла или внутри строк, от этого не меняется. Избавься от метафор. Порой жизнь без них кажется лицом прокажённого без маски. Но всё-таки лучше знать, чем догадываться, кого держишь за руку. И держать, а не воображать, что держишь. Чувствовать тепло, а не разлагать свет в спектре цветов. Ты так долго искал свой тринадцатый знак зодиака…
Вспомнились руки Маугли: как носили браслеты, как переворачивали всё вверх дном в моём доме на Мальте. Стыдно! Надо было дать ей погладить сову. Вряд ли случилось бы что-то непоправимое, коснись её пальцы чучела птицы, но одной ссорой в памяти было бы меньше. С Альбертом не поспоришь: совершенство неодушевлённых предметов мне всегда было дороже живого тепла. За пределами сна не замечал ничего, кроме смерти. И догнал её здесь, в лабиринте.
– Ты молчишь. Не слушаешь меня? – отдёрнул меня.– Мне нужна твоя помощь.
– Знаю, поэтому и пришёл. И благодарен Маугли за возвращение картины в музей, но вызволять её из башни придётся тебе самому.
– Как?
– Словом. Но и в мёртвом городе слова должны быть живыми. Ты – поэт. Не слово ведёт мастера, а мастер выводит слово. Поэт, как скульптор, оживляющий глину, песок и камни, не может ненавидеть материал. Жизнь вокруг, земля под ногами, трепет и угасание превращают буквы в слова – в смысл. В непрерывный поток, трискелис. В конце концов, кто выбирал Суд в качестве перехода в мир иной? Теперь у тебя есть такая возможность: пересмотреть свои жизни и высечь искру огня. Пламенной речи поверят. В Суде две верховные палаты избранных: Братство Псов и Сыны Змея, и две нижние – из горожан. Ты должен зажечь их всех, произнести слова, которые ждут. Если получится, Маугли выпустят из башни, а ты обретёшь нормальный дом взамен конуры под мостом. Тебе нечего терять, рискни хотя бы сейчас.
Луна прибывала. Я искал живые слова в переулках, на площадях, над каналами. Слушал чаек – они молчали. Отдирал мох от стен и ранил руки о шершавый камень в надежде рассадить их в кровь. Кожа отливала бронзой: ни царапины. Смотрел на солнце до ослепления, но и в темноте не видел снов. Вспоминал ржавое остриё земных обид, задыхался от предчувствия минувшего счастья. Пил воду из фонтанов, но она проходила сквозь меня, как сквозь воздух. Внутри и вокруг зияла пустота – оплетала щупальцами, как осьминог, и глотала. Ветер крутил сухие листья под ногами и сбрасывал в каналы. Листья плыли куда-то, сталкивались в воде и цеплялись друг за друга, но всегда расставались, продолжая свой путь в одиночестве.
Нашёл фонтан с лицами с фаюмских портретов, а потом и своё лицо, повторённое янусами. Отражения. Сколько мастерства, чтобы запечатлеть в камне нас всех, сохранить время! И оно не должно быть разрушено.
Когда взошла девятая луна, полная, замкнутым кругом, принёс Альберту речь. Встретились на площади у фонтана с моими – ещё целыми – лицами.
– Читай, – сказал он.
Развернул исписанный с двух сторон лист бумаги и вдруг ощутил глухие удары внутри грудной клетки. Нет, не сердце, я – в пустоте. И всё же… волнение было земным, настоящим. И я поверил ему.
– Мы все в городе за пределами времени и пространства, – начал читать, – но мы остаёмся людьми. Помним землю и воссоздаём жизнь здесь. Кто из вас видел на земле два одинаковых цветка, птицы или лица? Мы все – уникальны. Жизнь учила нас бить непохожих и несогласных. Тех, кто не поддаётся ей и пытается переделать. Хранить порядок вещей, избегать незнакомцев, не стараясь понять. Но у каждого из нас – своё время, и все мы вправе хранить его таким, каким помним. Тогда ответьте, почему фонтаны нельзя украшать статуями с неповторимыми лицами, как было там, на земле? Кто сказал, что путь в гавань открыт избранным, а не тем, кому есть что взять с собой на борт кораблей? На месте города вы могли бы создать Эдем, но вашей фантазии хватило лишь на лабиринт одинаковых улиц. У города нет даже имени. Это пустое безликое место создали вы. И ждёте то кораблей, то волны, то ответа с небес, но никогда не делаете ничего сами, чтобы познать окружающий мир и освободиться от страха перед ним. Мир меняется, он – мимолётен. Вы же его заморозили, превратили в лабиринт и ходите по кругу. Тяга к постоянству – лень души. Лень порождает скуку – вашу унылую тюрьму, главного демона человечества. Откройте глаза и воздайте по справедливости тому, кто…
– Стоп-стоп-стоп! Это никуда не годится! – замахал руками Альберт.
И рукава плаща вновь промелькнули крыльями ангела.
– После таких слов на земле обычно начинаются войны и революции. Бессмысленная резня. Людям не нужна справедливость, они ждут правды. Расскажи им вашу историю: как оба очутились в лабиринте преждевременно и не по своей вине. Скажи, что любишь Маугли. Те, кто сберёг земные воспоминания, способен сочувствовать. Остальные – не в счёт, они не создают город. И ты прав, им скучно. Плевать им на Суд, они хотят шоу. Взамен хлеба здесь эфир, но взамен зрелищ – пустота. Собери музыкантов, и пусть начнётся великий Карнавал. Праздник Диониса, отменяющий все законы. Праздник – отдых для всех, и для блюстителей порядка в том числе. Твоей узнице позволят вернуться в город. Подари людям мечту, и они пойдут за тобой. Пусть почувствуют себя теми, кем хотели, но не смогли стать при жизни.
[1] В Париже линии пригородных поездов соединены с линиями метро, и от одной платформы отходят поезда разных направлений.
[2] В Афинах некоторые сады и места отдыха (кафе, рестораны) расположены на крышах высотных домов.
[3] Здесь и далее упоминается мистический кинофильм Дэвида Линча «Внутренняя империя».
[4] Стихи, которые произнёс Аморген, впервые ступив на землю Ирландии. Считается, что Аморген – имя первого поэта народов моря («…на северном побережье Галлии обитают моряки, основное занятие которых — перевозить мертвецов с континента к последнему пристанищу на острове Британия» — Плутарх, 120 г. н. э., Прокопий, VI в. н. э.). Де Жюбенвилль. «Ирландские мифы».
[5] Гомер. «Одиссея», XIX, 559-56 7.
[6] Символ ухода в мир творчества от проблем современности, духовных исканий, «оторванных» от «прозы жизни», появился в эпоху романтизма, благодаря поэту Шарль Огюстен Сент-Бёву, а также переписке Гюстава Флобера.
[7] Роман Г. Гёссе «Игра в бисер»: создание идеального искусства – ради искусства.
Картина третья: «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (абстракция)
Эпизод 2. Чаши
♠
Чашей возможностей мне чудился город. Сияющим звонким бокалом из горного хрусталя, где на дне по ночам просыпались пленительные огни фонарей, витрин и неоновых вывесок. В город стремились все: бродяги, монахи, философы, воины, разбойники, торговцы, безработные, ремесленники, безумцы. Огни манили и обманывали всех без разбору: и странников, и горожан. Разбитые сердца склеивали, как фарфоровые чашки из прабабкиного сервиза, скрывали за стеклом сервантов в гостиной и шагали дальше по улицам и проспектам. Жизнь – тот же покер: нет плохих и хороших, заслуживших и недостойных, есть игроки. Победители и побеждённые меняются местами в зависимости от крупье, распечатавшего колоду. Счастливая карта – от Бога, а беды раздаёт Дьявол. Тащи карту, Ульвиг, тебе не дано угадать, чьё лицо под маской сдающего. Будь ты хоть семи пядей во лбу, без приглашения в банкетный зал не пропустят, да и горе не возмездие за грехи: зачастую страдают честнейшие благородные люди, а подлецам и бастардам всё сходит с рук. Можешь сбросить карту, не глядя, или повысить ставку – вслепую. Пророку не место за игорным столом, его повесят на дереве за ногу, головой вниз. А тебе стоит попытаться приручить удачу верой в себя и в лучшие времена.
Я извлёк урок из миража наизнанку и на этот раз всё сделал правильно. Вошёл в город незаметно, с подветренной стороны, где Флегетон западает за край: взгляды живущих всегда обращены на восток. Сверху, из окна, огненная река виделась лавой, востекающей из жерла вулкана, а внизу оказалась потоком рубиновых фар мчащихся автомобилей. Скоростное шоссе делило город на северную и южную части. Южане рвались на север, северяне – на юг. Плата за переправу через шоссе предназначалась светофорам, но они были сломаны: монетки кидали так часто, что переключатели света с красного на зелёный перегорели. Люди же, рискуя попасть под колёса машин, продолжали перебегать на ту сторону. Людям непременно нужна та сторона, где их нет. Я починил проводку и выгреб мелочь – свою первую добычу. Не золото, но на несколько обедов в ресторане, новый костюм цвета кофе с молоком и номер в недорогом отеле хватило. Так я и стал хозяином радужного моста: деньги кидали не в прорези на столбах светофоров, а в мою внушительных размеров чашу. И вряд ли кто-нибудь вспомнил бы, что когда-то было иначе. Самое время начинать прикармливать удачу, самое место понять её суть в сердцевине чужих дорог и страстей. Наблюдал за прохожими, подслушивал разговоры, подсматривал улыбки и рукопожатия, улавливал настроения. Человек не живёт в пустоте и не принадлежит себе, а всегда действует внутри той или иной истории, желая вписаться в поворот событий и ожидая одобрения окружающих. И если предположить, что счастье – гармония с миром, то нужно знать, где и как искать его здесь и сейчас, в городе, где нахожусь, рядом с теми, кто изо дня в день держит путь на север или на юг мимо меня.
На первый взгляд в их курсировании туда-сюда не было никакого смысла, но вскоре я ощутил силу рутины: всякий переходящий шоссе думал о том, что ждёт на другой стороне и ни о чём более. Прошлое севера, как и будущее туда возвращение, застилал зелёный свет на юг. Пешеходы чувствовали себя маятниками, позабыв, что часы их не вечны и однажды хождение прекратится. Воробьиные шажки повседневности заглушали неотвратимую поступь смерти. Они и не знали, что ежегодно в автокатастрофах погибают сотни горожан и миллионы по всему миру, не замечали мигалок и сирен скорой помощи и дышали ровно, как спящие в колыбели: вдох-выдох, вперёд-назад, север-юг. Медленно и неизменно. Буднично. Город на шоссе напомнил мне город над морем, откуда мы отчаянно пытались сбежать, с той лишь разницей, что птицы здесь летали по небу, а не прятались под мостами. В городе над морем строили фонтаны под дождём и не могли толком объяснить зачем, здесь же маялись меж завтрашним днём и вчерашним, тщетно пытаясь догнать если не других, то хотя бы себя. Человек устремлён в будущее, под светофором он уже не семьянин-северянин, поцеловавший у порога жену на прощание, а неутомимый работник юга, истово продаёт зеркала или старательно прилаживает набойки на сапоги. Дом – работа, север – юг. Повторяемость создаёт ощущение безопасности, как во сне, когда знаешь, что проснёшься. У дороги никто из них не догадывался о себе настоящих, видели свои копии, маски – потерянные на вчерашнем маскараде или ещё не раскрашенные и не покрытые лаком к завтрашнему. Моя переправа была их сном – коротким беспамятством между закатом и рассветом. Или жизнью? Родившись, человек начинает движение к смерти, ускоряясь и порой не вписываясь в повороты, но так или иначе настигает её в конце пути. Уходит в рассвет, ступая босыми ногами по прохладной росе. И никто уж не вызовет в горящих факелов круг. При жизни человек несётся по кругу, а после неё бродит кругами, как в Аду у Данте. Из дома в дом, из города в город.
Почему все города на том и на этом свете так похожи? Не потому ли, что люди не способны сочинить новый миф, не повторив почти слово в слово предыдущий? Множатся отражения, но свеча в зеркалах одна. Кто зажёг её? Почему в христианском Аду текут языческие реки: Стикс, Флегетон, Лета? Сидя у окна в зелёной комнате, надеялся на искупление: Флегетон смывает кровь с рук убийцы. Лавовый поток состоит из элементов ядра и мантии Земли, чем не река Аида? Но огненная река превратилась в Лету и вместо очищения подарила забвение: источник у них один – слёзы Критского Старца. Вода. Зеркало времени, отражавшее теперь и меня. Я стал частью города, и нужно было завоёвывать признание общества. На пересечении дорог без труда заводят знакомства. Приглашали на торжества и в гости, втолковывая, что костюм цвета кофе с молоком годится для званых обедов, а к ужину прибывают во фраке, что существуют приличия, мода, мораль и правила поведения, а главное в жизни то, что скажут или подумают обо мне другие. Старался и соответствовал. Выучил по именам лучших портных города, опаздывал на светские вечеринки ровно на принятые десять минут, смеялся в общем хоре над непонятыми шутками и лил крокодиловы слёзы вместе со всеми. Легенда о том, что крокодил оплакивает жертву, поедая её, красивая, но всё же легенда. Слёзы – защитная реакция организма, избавляющая от переизбытка солей. «Вы – соль Земли»[1]. Поплакал, и отлегло, полегчало. Человек для себя – тяжёлая ноша в пути. Наедине с собой он – сплошное сомнение без чётких границ и очерченных контуров. Куда как проще отдаться на растерзание Другому – вору, «укравшему меня у меня»[2], освободившему от бремени самопознания. Тысячи глаз наблюдали за мной ежедневно, их выражения служили ориентирами определённости: чувствовал стыд или гордость за свои поступки, испытывал страх, предвкушал награду, предавался тщеславию. Был своим в стае. Все мы ищем сопричастности и признания. Шагаем в центр круга, где горят факелы, чтобы не раствориться тенью во тьме за его пределами, не исчезнуть, как исчезают изгои, когда их вымарывают из всевозможных списков. Рядом с другими я был постижим для самого себя. Жил налегке, переложив львиную долю своей ноши на чужие плечи. Находил оправдания в чужих глазах. Струсил? – в меня и не верили; выиграл? – подсказали как; потерял? заблудился? – не уследили. А если внутри вспыхивали мучительные вопросы без ответов, озирался по сторонам и сталкивался взглядом с прохожим. Ответ зажигался в его глазах, как красный или зелёный свет светофора.
Однажды, возвращаясь из гостей, переходил шоссе. Остановился у светофора переключить свет и … физически, до жжения в позвоночнике и затылке, ощутил чей-то взгляд. Обернулся. Позади меня был магазин модной одежды: расфуфыренные Моны Лизы в витрине с разных ракурсов смотрели в одну точку – мне в затылок. Показалось, ещё немного и волосы мои загорятся. Словно манекены возомнили себя символом городского сообщества: всевидящее око, коллективное сознание, сеть. Неужели это и есть Бог? – подумалось мне. Зеркало, где хранятся и множатся наши отражения? Клей, соединивший кусочки мозаики? То, что не даёт реке распасться на капли? Гален считал нервную систему человека Древом жизни, нет, она – ветка. Древо жизни – наша взаимосвязь, телепатия, способность видеть себя глазами посторонних, когда «каждый есть другой и никто он сам»[3]. Вездесущая неизбежность кар и воздаяний для всех без исключения. Когда виновен в плохом ли, хорошем ли означает жив. Ты – причина событий в жизни других, точка отсчёта линий их прошлого. Исчезни, выйди из круга и погубишь не одного себя, но и тех, для кого держал факел. Ни встречу, ни смерть отменить не позволят: твоё время принадлежит другим.
А что чувствуют тени? Вопрос, как маятник, не давал покоя ни днём, ни ночью. Тень сама меня отыскала.
– Выбор не совершается в одночасье, – сказал незнакомец, – его долго носят в себе, пока сок не забродит в вино, броуновское движение частиц не застынет, а то драгоценное, что скрывалось на дне бокала, всплывёт на поверхность, и пазл сложится вмиг.
Ни драгоценностей, ни денег у него не наблюдалось. Нищий бродяга в шитом-перешитом на локтях свитере, широченных штанах, подвязанных на поясе пеньковой верёвкой, и пыльных ботинках. Лицо невозможно запомнить, будто тысячи дождей и ветров стирали его черты. Охрипший от проповедей или пения блюза. Выжженный горькой настойкой. Возраста вневременных лет. Пришедший откуда не возвращаются. В качестве платы за переправу предложил сыграть в карты. Я согласился. Никогда прежде мне так не везло: долгожданное каре, все четыре туза в руках – с первой же сдачи! От радости подскочил на месте, бросил карты и собирался зажечь бродяге зелёный свет. Побеждая, легко быть великодушным и щедро прощать долги.
– Не верь удаче, Ульвиг, – усмехнулся он и выложил на асфальт свои карты. Кресты роял-флэш[4] поплыли перед глазами, как могильные сквозь слёзы на кладбище. Королевская комбинация в покере.
– До тех пор, пока в колоде жизни присутствует джокер, тебе не обыграть судьбу. Посмотри на него внимательно, неужели не узнаёшь?
Карта зеркально переворачивалась: саркастическая улыбка фокусника и мага вверху отражалась страдальческой гримасой повешенного[5] внизу.
– Они – суть одно целое. Сила пропорциональна жертве. Тот, кто способен пожертвовать всем, обретает всё. В городе возможностей они так и остаются возможностями, нераспечатанными письмами, неразгаданными символами. Не заметил, сколько деревьев цветёт в округе? А где же фруктовые рынки? Почему даже яблони не плодоносят?
Я не смог бы сказать, сколько времени провёл в городе, но после весны здесь сразу наступала зима. Цветы и зелёные листья не опадали: тонкий слой льда надёжно хранил их до следующей весны. А привычка вынуждает воспринимать абсурд как должное.
– Нельзя вечно сидеть у переправы, Ульвиг, тем более, если не родился её хозяином. Никого не обманешь, кроме себя.
– Что же мне делать?
– Идти дальше. Искать ответы. Ты вошёл в город с запада, поднимался вверх по руслу реки и ни разу не заглянул на другие его окраины. Ухватился за первую попавшуюся возможность, не исследовав остальные.
– А зачем? И так живу в средоточии путей, в центре мира, куда стекаются все городские и запредельные вести.
– Вестники не всегда честны, они преувеличивают, приукрашивают события и множат слухи, от таких новостей один вред.
Признаться, я и не мог покинуть свой пост надолго: если на переходе скапливалась толпа, люди начинали нервничать, а мне не хотелось их злить понапрасну. Кто я такой, чтобы перечить воле случая, отказываться от подарка судьбы? Я был нужен горожанам и тем счастлив, могло быть и хуже.
– Дары судьбы не всегда дары, напротив, зачастую они – испытания. А лёгкий путь, как известно, ведёт в никуда. Никому изначально не уготована участь наёмника. Не накопив, нечем делиться. Без понимания чего хочешь сам, не получится служить другим.
Он был прав, этот нищий бродяга, я так ничего и не достиг, меняя безвременья, словно дешёвые цирковые декорации. Кем я был, есть и стану определяли те, кто держал в руках нити времени, моё же вечно путалось в клубок, затягивалось в тугой узел, рвалось в неожиданных и неподходящих местах.
– Все чужие города похожи друг на друга. Твоею неприкаянностью в них. Невозможностью пустить корни.
Вспомнились перекати-поле, мёртвые цветы пустыни. Отовсюду она простирала ко мне руки – песочного человека, танцующего во сне над барханами, воина без сил и меча, чести и доблести, странника без пути, чьи следы заметает ветер. Перекати-поле, как и я, были её пленниками: бескрайние пески безысходны. Монотонный пейзаж жесток в молчании, но тень не предаст, укажет на стороны света, где бы ни находилась: впереди, позади, справа, слева, наискосок.
И тень повела меня. На север, где, согласно легенде, на ясене висит Бог. Бог ли он на самом деле, никто из горожан не ответил бы наверняка. Одни утверждали, что он – беглый преступник, подвешенный за ногу на дереве за свои злодеяния, другие считали его пророком, которому ветер нашептал великие тайны земли, а их опасно знать простым смертным. Третьи говорили, воскрес и вернулся в свой северный край, туда, где со всех сторон окружает юг, а на дереве болтается ненужное, истлевшее тело, будто он – змей, сбросивший старую кожу. Четвёртые, что повешенного забальзамировали живьём, сотворив из него памятник страху и боли, и по ночам до сих пор слышны его стоны. Говорили многое, и слова превратили минувшее в миф.
Я разглядывал чёрный иссушенный ветрами ясень. Семя упало на крышу дома, но выжило. По мере роста корни тянулись к земле сквозь щели в каменной кладке, оплетая и разрушая дом, лишая его собственных сил, сливаясь с ним в одно существо, становясь единственной опорой. Подобное часто происходит между людьми, дом и дерево – символ человеческих отношений. Сначала не замечаешь, как прорастают у тебя внутри, а потом рубить уже поздно: вы – нераздельны. То же самое происходило и со мной во всех городах из жизни в жизнь.
– В этом доме родился повешенный, – рассказывал бродяга, – и росли они с деревом вместе. Проснувшись утром, будущий пророк обрубал корни, прорвавшиеся за ночь сквозь потолок, не давая дереву шансов заполонить комнаты. Но корни ползли снаружи и сквозь стены, опускались живым занавесом на окна, скрадывая дневной свет. В день, когда ясень достиг земли, пророк залез на крышу, намотал конец бечевы на ветку, затянул петлю на ноге и прыгнул вниз.
– Почему? Понял, что дерево победило?
– Нет. Он понял, что сила – в корнях.
«… висел я
в ветвях на ветру…
посвящённый Одину,
в жертву себе же,
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых…»,
– строчки «Старшей Эдды» закружились в голове листьями ясеня. Последний листопад. Будущими вёснами дерево не зеленело и не цвело. Незачем. Повешенный вниз головой перевернул мир и обрёл свободу. Дом, город, жители утратили над ним власть. Убив себя, он убил их всех. Свободны только боги, и он стал богом – для себя. Наверно, это и есть вечное возвращение. Домой. Я пересёк горы, реки, моря и пустыню, покинул родину Одина, чтобы встретить его в другом облике в далёком краю. На земле мы все – чужестранцы, важно лишь то, что несёшь с собой в рюкзаке. Простые символы, заключённые в рунах, таро, иероглифах, пиктограммах… Ключи, что помогут вспомнить, кто ты и откуда пришёл. Мальчишкой в Праге рисовал на запястьях крестики, ромбики и кружочки. Сами по себе они ничего не значили, но рисуя, воображал, что должен сделать и чего нельзя забывать, а взглянув на руки, вспоминал об этом. Руки всегда перед глазами, если не связаны за спиной. Иногда целая цепочка событий умещалась в одном кружочке, и память раскрывала его, как цветочный бутон. Времена текучи и переменчивы, религии пересекаются и скрещиваются, а тайные знаки переносят воспоминания из жизни в жизнь. Подними с земли такой символ и получишь себя у судьбы обратно. Бессмертным.
Ещё раз взглянул на Бога: ветер крутил и раскачивал его кости, обтянутые кожей, как невесомую верёвочную лестницу на дерево и дальше – в небо. Вот что произошло в тот день, когда он повесился. Бог ли, пророк, злодей, кем бы он ни был, случайно захлопнул дверь снаружи, а ключ остался внутри. Запер свой дом от себя же.
Я разбежался и вышиб плечом обветшалую дверь.
[1] Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея. 5, 13-14
[2] «Бытие и Ничто». Жан-Поль Сартр
[3] «Бытие и Время». Мартин Хайдеггер
[4] Роял-флэш – самая старшая комбинация в покере: туз, король, дама, валет, десятка одной масти. Джокер заменяет любую карту в комбинации, в данном случае – туза.
[5] Одиннадцатая карта Таро – Сила, а противоположная ей двенадцатая – Повешенный, воплощает идею жертвы, т.е. того, что даёт силу. Чем больше жертва человека, тем большей будет его сила.
Эпизод 3. Огонь
♦
В доме лил дождь. Капли падали с потолка, струились по стенам, тушили свечи. Мне снился сон о другом доме. Доме скульптора на земле. Ты привёл меня туда и ушёл. А мы остались стоять с ним вдвоём на пороге комнаты с высокими потолками и огромным столом с застывшими стеклянными птицами – красивыми, разными. Мне понравился маленький дрозд из зелёного стекла, словно из малахита. Его трудно было рассмотреть за другими птицами, раскинувшими крылья, и я потянулась взять его в руки. Столешница покачнулась, и птицы рухнули на каменный пол, разбились – вдребезги, в осколки, в стеклянную пыль. Скульптор молча покачал головой и отвернулся. В профиль заметила, как он похож на тебя, Аморген! Те же усталые уголки глаз, тёмные завитки волос на висках, резкие нервные скулы. Птицы были трудом всей его жизни. Ничего не вернуть, не исправить. Поступок не имеет прощения. Сжимала зелёную птичку в руках и плакала. Первое, что услышала, когда открыла глаза, – шум дождя. Он тоже оплакивал птиц. Стеклянные птицы – разбитые мечты? Или наши жизни? Загадала снова заснуть, вернуться в сон и отдать тебе малахитового дрозда. Единственную спасшуюся птицу. Но вернуться не получилось.
– Последние слова должны быть простыми, без пафоса, фальши и лицемерия. Но где найти такие слова? – задумался Арно.
Перебирал старые виниловые пластинки, дождь глухо бил по картонным конвертам, размывая великие имена.
– Может быть, Lacrimosa? Напоследок многие хотят услышать «Слёзный день». «Я умираю, не исчерпав своего таланта. Жизнь была прекрасна, но нельзя изменить судьбу. Никто ещё не отмерил свою собственную жизнь, нужно смириться, всё подвластно провидению»[1].
Тягостные звуки скрипки, подхваченные высокими потусторонними голосами. Идеальные, очищенные от земной радости эмоции. Игла проигрывателя высекала из пластинки душу, и она текла слезами, смешиваясь с дождём. Прощающаяся и прощённая. Господи, как же мне жаль себя, как мне жаль!
–Я не хочу умирать вот так! Ничего не сделала, не поняла, не успела в жизни!
– Утешься тем, что могла бы или тем, что никто не успел. Конец наступает неожиданно, незаметно, буднично. Жизнь тает, как снег, испаряется, как вода. Никому не наливают полную чашу. Чем-то придётся жертвовать: или любовь, или творчество, или счастье, или покой, или долгая дорога, или дом. Мир строится на жертвоприношении, потому что ничто в нём не происходит одновременно. Когда душа прилетает на землю, помнит всё и сама выбирает судьбу: отказывается от тех или иных глотков в чаше в пользу других, а потом забывает и сетует на свои несчастья. Ваши жизни выбраны вами. Но вы не помните вечности, знаете лишь, что есть время – вчера, сегодня, завтра. И если вчера существует внутри вас, сегодня – вокруг, то завтра не случается никогда.
– Нет, нет! Я не могу уйти. Не могу! Мне нужно вернуть дрозда!
– Маугли, перестань, пожалуйста! Если иного пути нет, смерть принимают достойно. А ты ползаешь по полу, плачешь… Дай мне руку, помогу подняться на ноги. Хватит! Жалко смотреть.
– Ты – жалок, Аморген! Тебе показали полусдохшие цветы в палисаднике? Это и был пересмотр, твой высший Суд. Тебе не о чем сожалеть, вот ты и не плачешь. Взгляни, как протёрт ковёр. Здесь все ползают на коленях, рыдают, вымаливают. Уже понимая: не ускользнуть. Осознав до капли, что не успеть. Перед великим все унижаются, не стыдно быть честными. Ни к чему здесь твои приличия и гордыня. Хуже того – отвратительны!
И Арно наклонился ко мне, утешая, погладил по голове, наполнил чашу вином.
– Пейте и плачьте. Люди невероятно красивы, когда плачут. А красота исцеляет. Из жизни в жизнь вы улыбались и улыбались, пародируя маски шутов. Поплачьте хотя бы сейчас. Стендаль прав, слёзы – высшая степень улыбки. Освобождение души из телесного плена.
– Зачем ты напаиваешь её?
– Пьяная плачущая женщина, что может быть прекраснее искренности? Ты же любишь слова? Их она и оплакивает. Ненаписанные, непроизнесённые. Отложенные на «когда слишком поздно», и остаётся только звонить в неоновое кафе или в телефонную будку на перекрёстке миров в надежде, что снимешь трубку. Маугли не первый раз в зелёной комнате, просит и всегда получает не то, о чём просит. И она не одинока, не оригинальна. Кто научил вас молчать о сокровенном? Она не скажет тебе «люблю», потому что выбрала мир. Города и лица. И лики статуй, точнее, один лик, невысеченный, затаившийся в глыбе мрамора. Ей рано выбирать дом, не набродилась по дорогам земли.
– Зачем же тогда её мучаешь? Пусть вернётся!
Вернётся, вернётся, вернётся… Холодное эхо капель дождя. Дрожь во всём теле. Тепла, как же хочется немного тепла и солнца! Маленький лучик в окно! И свечи не горят, не согреть руки. Зеленеет немота комнаты в ледяном сне. Малахитового дрозда уронила на пол, густой ворс ковра схоронит его, как трава.
– Почему там, где я, постоянно идут дожди?
– Дождь – слёзы ангелов, мои слёзы по тебе.
– Всё-таки хочешь забрать её?
– Нет, мы больше не встретимся. Я – существо, лишённое времени, ветер, безвольная психофора, ваш проводник. Всё, чего мне хочется, – облегчить вам переход.
Чудеса являют накануне забвения. В одном окне взошла луна, а в другом – солнце. Арно встал в центре комнаты и поднял руки ладонями вверх. Огонь побежал по каплям дождя, как ток по проводам. Солнечный и лунный свет соединились. Струя времени – серебряная и золотая – полилась в обе стороны. Четырнадцатая карта Таро: Ангел, протягивающий нам чаши. Мы – пленники радуги текущего и ускользающего момента, каждый в своём мире, в своём сегодня. Мы не можем ничего изменить. Отказался бы ты от нашего времени, если бы знал, что не выберу? Думаю, нет. Прости!
Вижу себя на палубе спасательного корабля. Вокруг суетятся люди в надувных оранжевых жилетах. Шлюпки с пострадавшими поднимают из воды. Наша история повторяется на разные голоса:
– Паром затонул в нескольких километрах от Кипра…
– Сел на мель, налетел на подводную скалу…
– Пробоина, нижние автомобильные палубы затопило мгновенно, камнем пошёл ко дну…
– Из двух тысяч пассажиров спасены триста семьдесят. Остальных ищут в море …
– … паром накренился, многие заперты водой в каютах…
Кошмарный сон без начала и без конца, без пробуждения. Одежда мокрая, зябну на ветру. Ощупываю себя, не могу понять, цела ли. Тело отзывается болью, значит, жить буду. Долго кричу в гул толпы, никто не обращает на меня внимания, потом надо мной склоняется женщина в синей униформе. Записывает моё имя.
– Список выживших? – спрашиваю, – Could I see the list of survivors?
Кладёт мне руку на лоб, вздыхает, уходит куда-то, возвращается с махровым полотенцем и папкой в руках.
– Tell me the names!
Кутаюсь в полотенце, пытаясь унять дрожь, хриплю ваши имена. Женщина хмурится и качает головой в ответ. Никого из вас нет в списке. Просит не волноваться, мол, скоро остров, окажут медицинскую помощь в больнице, а сейчас лучше не двигаться. Спрашивает, не нужно ли мне чего.
– Mirror!
Дайте зеркало. Удивлённо молчит, пожимает плечами: не на бал едем. Зеркало, – твержу всё настойчивее. Приносит.
Я смотрю в зеркало и в отражении вижу берег. Вот он, финал моего сна.
♣
Дождь прекратился, вспыхнули свечи. В комнате стало светло, но похолодало, пар шёл изо рта. Я накинул на плечи плед, Арно обхватил себя крыльями и съёжился в кресле Маугли напротив меня. Бесприютно сидящий на краешке напоминал нахохлившегося гигантского воробья.
– Альтернатива всегда есть, – сказал он, – Маугли очнулась в параллельном мире, где вы трое погибли, а её вытащили. Море спасает тех, кто носит имя его. Марина. Дар Посейдона. Вернёт настоящее имя, закроет дверь в свои сны, и братство Псов отпустит её. Время залечит боль утраты, ваши лица постепенно исчезнут из памяти.
– Она не была ни в башне мёртвого города, ни в зелёной комнате?
– Нет. В том мире вы расстались с ней на пароме.
– Что ж… Она счастлива там?
– Да, вполне. Выйдет замуж на острове любви, будет жить в доме у моря. Вокруг дома вырастут каштаны. Неспешная жизнь в тени деревьев.
– А как же статуи? Она мечтала быть скульптором.
– Чем плох прибрежный песок? По мне, так жила бы спокойно, искала бы взглядом свечение на горизонте и не находила. Маугли была счастлива на песчаной косе, лепила чешую змея, глотающего хвост. Мгновения, когда пальцы перебирают песчинки, череда дней в безвременье, напрасная, но неисчерпаемая радость. Не суждено. На побережье обрушится гроза. После удара молнии песок превращается в стекло, в зеркало воспоминаний, и люди начинают жить прошлым. Не всех молния убивает, иных делает ясновидящими, наделяет талантом писать музыку, стихи или картины. Озарения. Прометеева искра. Марина вспомнит лик атланта. Попросит мужа купить мрамор и инструменты и обустроить мастерскую на заднем дворе. Через год примет участие в местной выставке с единственной – первой и последней – статуей атланта, сенсацией, ошеломившей зрителей. Весть о ней разнесётся далеко за пределы острова.
– Хотел бы я взглянуть на атланта!
– В прихожей на стене висит зеркало. Встань, подойди к нему.
Зеркало потемнело, покрылось пятнами – патина времени. Долго смотрел в глаза самому себе, предвкушая, что вот-вот начнётся кино о новой жизни Маугли. Но зеркальный экран точно застыл, подёрнулся льдом.
– Эй, оно ничего не показывает! – крикнул в распахнутую в комнату дверь.
Арно засмеялся.
– И не должно. Любовь делает людей похожими друг на друга. В атланте и ты, и зрители узнали себя. Фокусник снял маску и растворился в нас.
– То есть вечная слава? Мечты сбываются?
– Слава не принесёт ей счастья. Дуракам слава тешит самолюбие, а умный человек не может не понимать, не догадываться, что успех – случайная выигрышная карта, и Дьявол потребует платить по счетам. Бесценное заберёт: жизнь, здоровье, любовь, красоту, дом, семью, близких друзей… А самым знаменитым человеком на планете был Человек-Слон: родился уродом, заплатил вперёд. Одарённые не мечтают о славе, лишь завершить начатое, взорваться Сверхновой, высказаться и быть понятыми. Марине тоже придётся вернуть долги: прикосновение к любой твёрдой поверхности начнёт вселять в неё ужас. Фобия столешниц, дверных ручек, подлокотников, стен, пола, каменной мостовой… Отчаяние и невозможность выйти из дома, где ноги утопают в мягких коврах. Муж будет носить её на руках до пляжа с рыхлым песком и обратно до постели. Незавидная участь, не так ли?
– И дорога моя сожжена, – вспомнил любимую фразу Маугли, – жаль, что лепила с меня, по памяти. А я не могу ей помочь.
– Можешь думать и так, наслаждаясь чувством вины. А можешь помочь. Эвридика вернулась и ждёт Орфея. Давно пора переписать миф. Для любви живой человек не нужен, нужна иллюзия, мечта о нём. Будете догонять друг друга из жизни в жизнь, искать и узнавать в разных телах, заново зажигать радуги. Любишь не человека, а чувства к нему…
– Постой, так я не последний рождённый?
– Выпей из чаши. Что в ней?
Зубы стукнулись о железный край, отхлебнул вязкой горечи.
– Гранатовый сок!
– Перерождение. Я же сказал, альтернатива всегда есть. Кому ты там нужен, в свете, со своими цветочками? Будешь вертеться на чёртовом колесе жизней, пока не дозреешь.
И Арно заходил взад-вперёд по комнате, выискивая что-то взглядом на полу.
– Где же он?..
Смотрел на него и не мог выдавить из себя ни звука. Израсходовал последние силы, волю, мысли – всё своё существо до вздоха, до капельки пота и молекулы крови, готовился с честью пройти по мосту над рекой времени. Ни о чём другом и не думал, не жалел себя более, самому себе стал посторонним. А сейчас у меня перед носом сожгли этот мост со словами «прогуляйся по окрестностям, погода хорошая». Так чувствовал бы себя Иисус, если бы Пилат не умыл руки; смертник, на чьей шее вдруг оборвалась верёвка; герой, чьи подвиги и войну позабыли; неизлечимо больной, простившийся с родными и написавший завещание, которого внезапно объявили здоровым и просят прощения за ошибку в диагнозе.
Поднял и протянул мне малахитового дрозда.
– Вернули тебе психофору. Цветные сны всесильны. Придёшь на землю, не обижай дроздов, твой ангел если и примет, то его обличие.
Птичья фигурка плясала в негнущихся непослушных пальцах. На миг ощутил себя человеком. Закипает летняя ночь, черна и душиста, как смола. В замочную скважину неба глядит, не мигая, на парк жёлтый глаз луны. Светлячки в аллеях – лунные слёзы. Стрекочут цикады. Где-то вдалеке плещется море. На холме над парком высится незнакомый город. Жаркая тишина, пронзённая ожиданием. Услышу ли голос дрозда? Говорят, иногда они поют по ночам. О чём можно петь и чего ждать в полнолуние, как не встречи, страшного и счастливого рубежа, разделившего жизнь надвое, на «до» и «после»?
В день, когда опрокинется небо,
и каштаны зажгут по тебе свои белые свечи,
Я пойду за тобой без оглядки,
постараюсь не отставать.
И пусть наши следы заметает ветер,
будет тени хранить раскалённый асфальт
городов, где нас видели вместе.
– Как мы встретимся?
– Ты излечишь её от болезни.
– Я буду врачом?
– Нет, её сыном. Любовь к ребёнку для женщины – новый мир, смысл и дыхание жизни, исцеление от болезней и бед, путь искупления, безусловное счастье. Теперь она будет обучать и утешать тебя, побеждать и ошибаться вместе с тобой, засыпать и просыпаться рядом, яростно защищать, слепо верить в твою исключительность, жить твоими мечтами, слезами, улыбками. Ты будешь для неё всем. Назовёт в честь поэта, сохранив твоё имя. Материнская любовь – самое жертвенное, самое искреннее из всех чувств на земле, чистое пламя. Жаждал любви? Обретёшь лучшее её проявление, познаешь её бесконечность.
Невыразимо то, что я пережил. Пожар в голове и в сердце! Огонь от свечей перекинулся на занавески, заскользил по полу, с треском обгладывал стены.
– Пройдёшь сквозь огонь и забудешь всё, что узнал. На земле никогда не смотри на пламя. Огонь возвращает память, а тебе грозит эдиповым ослеплением.
Дом и мы в нём сотканы из огня – единственной возможной материи. Закрыл глаза и впустил его внутрь. Чудеса случаются, когда не поможет ничто другое.
♥
Абсолютный свет есть тьма. Тьма взорвалась огнём, исторгла из себя частицы света.
Первая жизнь зарождалась вслепую, и только спустя миллионы лет у жизни появились глаза, чтобы увидеть свет, и ещё миллионы лет, чтобы обрести язык и молвить слово о нём. Но настоящий ли это свет, созданный словом? В мире, где неназванных не существует, слова наделяют смыслом явления и предметы. Не превращают ли слова нашу жизнь в миф?
Первыми словами были любовь и смерть, а между ними возникло время. Длина секунды – неглубокий вздох. Если время зависит от нашего восприятия, успеем ли мы надышаться?
У моря вкус крови и слёз. У горя запах пепла. Нет точного антонима к слову «боль»: покоится неживое. Войны не прекратятся, потому что время – это война. За прошлое и против него, чтобы забыть и начать всё заново. Потому что любовь – это война. За любимого и против него, чтобы сохранить себя. Борьба женского и мужского, сердца и разума, души и тела, чаши и меча. Счастье даётся в секундах единения. Самые глубокие раны наносит оно – никогда не повторяется, заключая нас в прошлом и подменяя жизнь воспоминаниями.
В мире есть те, кто черпает из света, и те, кто черпает из раны. Те, кто боится огня, и те, кто видит с закрытыми глазами. Плотная ткань любви, как и ненависти, со временем истончается, и человек предстаёт перед нами таким, как есть. Одиноким снаружи, пустым внутри. Вечная тоска по недостижимому идеалу – чаше, наполненной до краёв. И как можем, наполняем друг друга, боимся растаять призраками в щемящей дробящейся на осколки пустоте. Хватаемся за руки – ощутить себя в тебе и вновь обрести тело, мир вокруг, жизнь.
– Я думал, мир – лабиринт, где я – Тесей, душа – Ариадна, золотая нить – мой внутренний голос, Минотавр – вселенское зло, а жизнь есть преодоление, путь к свету. И нужно крепко держать нить в руках, чтобы найти выход. Но мир – колодец, где Ариадна бессильна, если нить оборвётся, и нет выхода, кроме как на небеса, где дрожат звёзды. Шаришь руками по стенам в полной темноте, и холодные гулкие капли – мои дни – ударяются о каменное дно колодца времён. Мерно, безостановочно, душно, страшно.
– Тёмный колодец не мир, а ваши тела. Когда люди утратят все чувства, войны иссякнут. Но есть и другой путь – слиться в одно существо. Выбирать вам.
Череда жизней повторяет череду дней. Есть серые дни, пролетают как тени, ничего после себя не оставив. Есть ключевые жизни-события, способные повернуть время вспять. И есть жизни-перекрёстки, когда душа раскалывается надвое. Непреходящий сон о предательстве и убийстве, о побеге и возвращении. На перекрёстках дорог кочевники построили города и потеряли в них душу. Ты не помнишь аромата белых цветов: города пахнут пылью и сжигаемым топливом. И не слышишь мой голос в разноголосице: в театре глухих все говорят одновременно, хохот, крик, плач, шум, музыка… Никто не молчит – в тишине проснётся душа, тишина чревата болью вины. В городах верят абстрактно, а живут отвлечённо. Незнакомцы друг другу, чужие себе.
«Да не восстанет сердце моё, чтобы противостоять мне на Суде».[2] Ты отрёкся от сердца, запер свой дом, а ответы ищешь в глазах посторонних, перекладываешь свою ношу на плечи других и рвёшь нашу нить, задуваешь свечу. Крестики, треугольники, кружочки на запястьях, дневниковые записи – нелепая попытка воскресить тлеющее время. А сколько было не помеченных, не записанных мгновений? Забвение и есть смерть. Что возьмёшь с собой в новый мир, если половина твоего времени удалена из памяти и мертва при жизни? Почему мы все так одиноки, несчастны, разобщены, но так несвободны и зависимы друг от друга? Что мешает реке распасться на капли, что не даёт капле ощутить себя рекой? Реален ли мир, если реальность зависит от наблюдателя, а мы отражаемся в его глазах?
Вездесущий взгляд Моны Лизы напомнил тебе всевидящее око. Возможно, великий Леонардо увидел Бога в глазах любимой, а возможно, увидел истину в её улыбке. Так улыбались античные статуи, так улыбаются влюблённые и умирающие – те, кто был близок к небытию и преодолел время. Так улыбнётся тот, кто вернётся домой после долгих мучительных странствий, тот, кто обрёл весь мир – уже навсегда. Улыбка пробуждения от спячки повседневности и гипноза безжалостного наблюдателя, меняющего нас взглядом, крадущего нашу жизнь. Улыбка освобождения из клетки плоти и от страха её неминуемого разрушения. Улыбка прощания с одиночеством.
Когда-то ты предал мечту и вместо цветущей саванны увидел пустыню. Застыл на пороге пещеры теней и смотришь, как ветер заметает следы на песке. Жизни плетутся, тянутся сумбурным тоскливым ожиданием и исчезают бесследно. Они так и будут петлять, возвращая тебя к выходу из пещеры снова и снова. А выход один – шагнуть в пустоту, за пределы экрана с немым чёрно-белым кино. Без времени сны повторяются до бесконечности. Уродливое лоскутное одеяло, бессмысленная мозаика городских улиц, бездна, поглотившая все лица на свете.
– Нельзя слишком долго всматриваться в неё, не сможешь закрыть глаза и проснуться.
Твой перекрёсток, где люди идут мимо нескончаемым потоком, где вдруг осознаёшь, что тебя давно нет среди них, тебя нигде нет. И мне не найти, не догнать тебя. Бескрайние лавовые поля, где ничто не цветёт, дома погребены под пеплом, не поют птицы, никто не смеётся, не слышно голосов, а мой крик тонет в пронзительном свисте и плаче ветра. Точку ставит усталость, когда нет сил идти, и понимаешь, не достичь горизонта – он всегда удаляется. Ульвиг, я – твоя Ариадна-душа. Я несу свет. Наши судьбы отражают друг друга, как зеркало, они – миражи наизнанку. Мы и есть твой переворачивающийся Бог, одно целое.
– «Да не будет разделения между мной и тобой в присутствии того, кто хранит равновесие!». Пока есть двое, притяжение и связь между ними, мир устоит, уцелеет. Простая, но совершенная формула гармонии. Вы должны уйти вместе, чтобы половинки расщеплённой души соединились, а звезда изменила цвет.
Ты взял меня за руку. Ангел взял нож. Полосовал себя ножом, как средневековые медики трупы в надежде найти душу. Чувствуют ли ангелы боль так, как её чувствуют люди? Есть ли у них душа? Неужели ангел тоже устал и мечтает стать человеком, чтобы обрести время?
[1] Вольфганг Амадей Моцарт, сентябрь 1791, партитура «Реквиема» прерывается на Lacrimosa dies illa.
[2] Заклинание сердца-души Эб. «Египетская книга мёртвых».
Купить печатную книгу с автографом или скачать электронную бесплатно
можно в моей КНИЖНОЙ ЛАВКЕ >>>