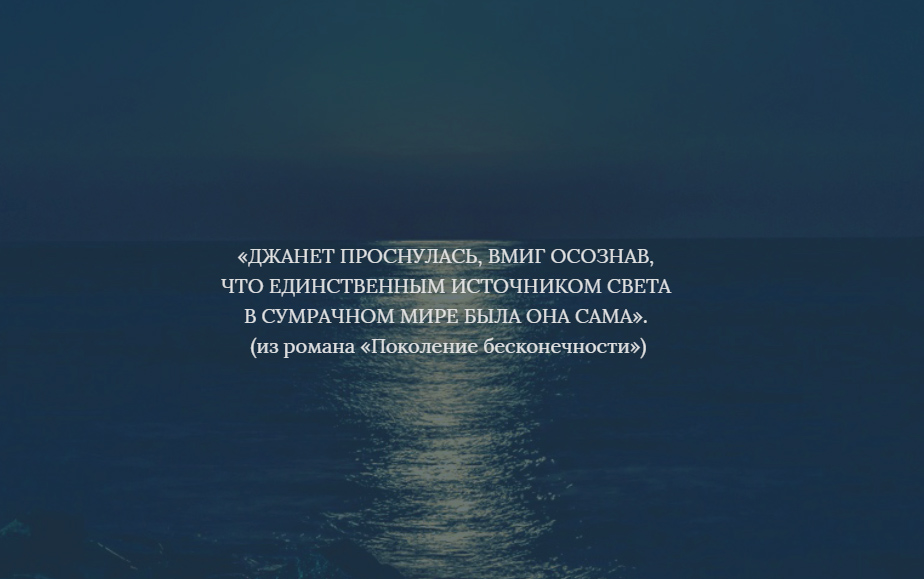
Вокруг постели спящей расселись шесть человек. В изголовье на прикроватном столике лежала увесистая книга. Первый сидящий взял её в руки, открыл на произвольной странице и зачитал: «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»[1].
Фразу повторяли по кругу, будто передавая друг другу и дополняя смысл интонацией. Скороговоркой и нараспев, глухо и звонко, криком и шёпотом, восторженно и печально… Пока она не превратилась в мантру, в молитву. Не заполнила комнату, растекаясь по стенам, отталкиваясь от потолка, нагревая воздух до жара огня. Лица с шевелящимися губами приближались к лицу спящей. Голоса сливались в неотвязный бессмысленный гул.
Она не слышала говорящих, смотрела их сны наяву. Порог между явью и сном исчез: она пребывала в комнате с побеленными известью стенами и одновременно в разных мирах. Так ощущается безумие — безысходностью, когда невозможно очнуться.
Сон Леры: «Возвращение»
Лере выдали свёрток и сказали: «Ты должна отнести!». На стене начертили план города. Красной точкой выделили пункт назначения. Город выглядел незнакомым, что в свёртке Лера тоже не знала. Но продолжала нести. С каждым сном свёрток становился всё тяжелее. Улицы поднимались и опускались. Переулки петляли. Здания в адресе то меняли таблички и названия, а то вовсе в них не существовало «пункта назначения» и никто не знал где. Трамваи, троллейбусы, мосты, перекрёстки, проходные дворы, замкнутые площади. Солнце и дождь. Осенние шуршащие листья. Свежий снег и грязь под ногами. Она несла и несла сквозь времена. Не зная что, куда и зачем.
Иногда ей казалось, что в пакете бумаги, иногда чудилось что-то звенящее и рассыпчатое, как драгоценности или старинные монеты.
Этой ночью северный ветер бил в лицо, рвал во все стороны полы пальто. Лера запахнулась потуже, прижав к груди свёрток. Шла по мосту, мимо со звоном и грохотом проносились трамваи. Мост дрожал под ногами и раскачивался. Лера, обмирая от страха высоты, хваталась за перила, останавливалась, закрывая глаза. Под мостом стелился туман, конца моста ближайшие метры не предвиделось.
— Вам плохо? Вас подвезти? — спросил водитель из распахнувшейся рядом двери.
Машина была чёрной обтекаемой капсулой, с тонированными окнами, внутри таких чувствуешь себя замурованной заживо. Машина была подозрительной.
— На мосту нельзя останавливаться, — сказала Лера.
— Если сядете быстро, никто не заметит, что я останавливался, — ответил водитель.
Лера в отчаянии посмотрела в бесконечность моста и села на заднее сидение.
Из зеркала заднего вида на неё взглянули внимательные, но ничего не выражающие глаза. Абсолютно непроницаемые.
— Куда едем?
Лера вынула свёрток из-за пазухи и зачитала адрес.
Водитель уверенно кивнул вместо ответа.
«Кто он? — спросила себя. — Никто в городе не знает, куда мне нужно попасть, а он знает».
Ехали долго, до самой окраины. Снег на полях вдоль дороги здесь лежал нетронутым, хотя в городе давно наступила весна и текли ручьи. Дорога упиралась в КПП перед прямоугольным серым зданием с бетонным забором. Водитель вышел из машины и за руку поздоровался с человеком в военной форме. Они что-то обсуждали между собой, то и дело оглядываясь.
Лера сжалась на сидении. На секунду в сознании мелькнула дикая мысль, что в пакете — бумаги из зала суда. Её собственный приговор.
— Вы на месте, — сказал водитель, помогая ей выйти из машины. — Дальше вас проводят.
Лера молча последовала за человеком в военной форме. Здание они обогнули, миновав парадный вход. За зданием располагались вольеры со сторожевыми псами, которые тут же взвыли и подбежали к сетке, чуя приближение людей.
— Это здесь, — равнодушно сказал человек в форме и ушёл, оставив её наедине с взбесившейся стаей.
Лера в каком-то оцепенении смотрела в их пасти, брызжущие слюной, блестящие, налитые кровью глаза, на когти царапающие сетку вольера… Не могла сделать ни шагу, ни вперёд, ни назад.
Вдруг свёрток в руках зашевелился и промок. В воздухе резко запахло ковриками из подъезда её детства, где бабушки-соседки вечно держали по пяток котов в одной квартире. Лера сорвала упаковку. В руках ёжился серый котёнок. Тоненькое беззащитное тельце. Ей приказали убить самое дорогое, что у неё было, но она не могла этого допустить. Лера спрятала котёнка за пазуху, повернулась спиной к вольеру и под вой и рычание собак твёрдой походкой зашагала прочь.
…Проснулась оттого, что кто-то едва слышно, но упорно царапался в дверь квартиры. Лера сразу поняла, кто это, и решила оставить котёнка себе.
Налив ему молока в блюдце на кухне, смотрела, улыбаясь, как он нелепо и жадно лакает, а потом позвонила на работу и сообщила, что увольняется. Денег на её накопительном банковском счёте было достаточно, чтобы, лёжа на диване и обнимая кота, читать книги до конца жизни. Вымышленные приговоры уже мёртвых судей несуществующей судьбе, которым незачем сопротивляться из последних сил.
Сон Алиски: «Необратимость»
Длинный обеденный стол решили поставить к стене, накрыть белой скатертью, украсить цветами, зажечь свечи. На блюда из разноцветного хрусталя разложили всевозможные яства, чтобы гости свободно подходили к нему и накладывали себе на тарелки кто что хочет, как на фуршете.
Алиска — ей бы хотелось, чтобы её звали иначе, но со временем привыкла к жестокому и пренебрежительному «эй, ты!», звучащему в лишней букве «к», как к чему-то само собой разумеющемуся, ей даже стало казаться, что иного отношения она не достойна — по первому звонку рванула к входной двери встречать гостей.
— Ради бога, только не облажайся! И детей прибери из-под ног, — рявкнул вслед Максим.
Алиса не помнила, по какому случаю муж собирал на званый обед важных персон: именины начальника отдела, серьёзный контракт, выигранный тендер, но знала непреложную цель — повышение по службе. Все они, и Максим особенно, служили одному богу — золотому тельцу. Максим в семье — добытчик, а она — растратчица. Он ради семьи жертвует, а она своей неуклюжестью и непривлекательностью только и делает, что разрушает семейную крепость, воздвигнутую с таким трудом!
Люди приходили и приходили. Алиса прислуживала без устали: вешала пальто, раздавала тапочки, провожала до двери в гостиную, недоумевая её вместительности: народу по её подсчётам собралось больше, чем на премьеру в театр. Наконец с последним гостем в комнату протиснулась и она.
То, что увидела, было необъяснимо и жутко. Не просто страшное зрелище, а именно непонятое способно вызвать настоящий инстинктивный ужас — из самой глубины существа.
— Поприветствуем хозяйку дома! — объявил человек в маске.
Он должен был и мог быть мужем, но Алиса не признала говорящего. Как не увидела всех остальных. Как не узнала детей. На блюдах вместо угощений лежали разноцветные маски, и гости уже облачились в зверей и богов, чертей и птиц, насекомых и киногероев… И весь этот разношёрстный мир зашевелился и поднял к мордам, лицам и клювам свечи в знак приветствия. Чокались свечами, как бокалами, и пламя переливалось через край.
Алиса привалилась к косяку двери и продолжала смотреть, не в силах покинуть комнату. Воздух потрескивал, капал воск, видения медленно оплавлялись на пол, и вскоре гостиная превратилась в омерзительную скульптуру из разлагающихся членистоногих монстров, в адово-колдовские фантазии Гауди.
Во сне попыталась убежать из дома — и проснулась. «Повезло», — подумала, как ребёнок. А Коста проснуться не смог…
Первая оттепель. Свежая земля вокруг его изголовья будто дымилась. Алиса пересадила орхидею из горшочка в землю. Погибнет от холода, но не сразу, побудет с Костой вместо неё. Когда-то он не позволил ей остаться рядом, и потому в дальнейшем разведённые, как мост, жизни складывались так уродливо и печально. В их первую семнадцатилетнюю ночь горячо целовала Косту, гладила, ласкала, но он не смог, у них ничего не получилось, и с тех пор ни разу не решились остаться наедине. Алиса в ту ночь поняла, что любовь — это случайная нежность, огромная, как мировой океан, но бессильная наполнить маленькие человеческие жизни. И не искала таковой более. Алиса мечтала иметь детей и выбрала Максима. Все одобряли её выбор, кроме молчаливой матери. Беременной Алиса боялась, что мальчики, старший, а потом близнецы, будут похожи на отца, когда вырастут. Но они уже были им. Необратимо.
Сон Косты: «Вечный образ»
«Божьей милостью камень обратится в воск», — звучало во снах. Люстра раскачивалась под потолком, рассеивая по комнате горячие блики. Обессиленный он лежал у неё на коленях, как в стране чудес, не сотворив своего. «Микеланджело. Пьета», — увидел он два обнажённых тела взглядом потолочного солнца.
«Что делать искусству, когда художник, сотворивший мир, давно умер, а образ его живёт, не меняясь веками? — задавались вопросами искусствоведы в книгах. — Ничего, — отвечали сами себе, — начинать всё сначала, и чтобы колесо не уставало вертеться».
«Смысл лежит за пределами вашего мира, — убеждали тени во снах. — Шагни за порог окна в ночь — и обретёшь больше, чем потеряешь».
Коста искал смысл во всём: в рок-музыке и кислотных клубах, в репродукциях картин из журналов и собственной неумелой графике, в поделках из дерева и Алискиных мягких руках. Но не мог проникнуть за невидимый восковой слой, заменявший миру вокруг целлофановую обёртку, не мог сорвать, соскоблить с самого себя плёнку окалины и расправить плечи. Оскоплённый творец.
В гробнице Медичи он подходил к скульптуре Микеланджело, а оказывался перед зеркалом в современном зале какого-то провинциального музея. Постмодернистский сон, где тела Мадонны и Христа были выполнены художником из разноцветных стёкол. Инсталляция начинала вращаться, сначала медленно, потом ускоряясь, сверкая до боли в глазах, радужные отблески, отражения, бесконечность. Помещение вокруг как единственная опора реальности во сне растворялось в нестерпимо ярких бликах, и он физически ощущал бескрайнее одиночество летящей или падающей в открытом космосе планеты. Коста хватался руками за невидимый рычаг, чтобы остановить коловращение, но рука вытягивала из конструкции длинный язык бумаги, похожий на магазинный чек: сколько же там было причудливых знаков и слов! арабской вязью, иероглифами, латынью… и последнее слово по-русски — «Тщета».
Просыпаясь, под закрытыми веками он видел свой же отчаянный взгляд — как из чёрного квадрата зеркала.
Просыпался в кромешной тьме. Ждал, что кто-нибудь зажжёт ему свет. И не дождавшись, тянулся сам — к прикроватному шнурку. В больнице такие предусмотрены для лежачих больных. Или тех, кого насильно заставляют лежать, привязывая к кровати.
Свет ослепил ненадолго. Коста достал из-под матраса наполовину исписанную и зарисованную школьную тетрадку, ручку и дописал P.S.: «Флоренция не существует».
Сон Марата: «За рассветом»
В детстве Марат не верил в мир, существующий за пределами видимости. И в каком бы возрасте ни засыпал, окружающий мир уходил вместе с ним куда-то на ночь, исчезал до рассвета и рождался каждое утро, новый, неведомый, когда открывал глаза. Не Марат существовал в мире, а мир исходил из него. Где-то в глубине души знал, что его земля умрёт вместе с ним и потому невозможно оставить на ней хоть какой-нибудь след. И повзрослев, слушал чужие мечты о завещании, наследии и прочей бессмыслице с едва сдерживаемой улыбкой, какой одаривают особо наивных и глупых детей. Ни в юности, ни в зрелости не покидал пределы родного города, и не собирался, не думал уехать куда-либо, даже в отпуск. В детстве каникулы, а потом отпуска взрослой жизни проводил с братом на озере. Оба были страстными рыбаками. На природе сумрак, поселившийся в его квартире, рассеивался, и если прошлое не отпускало совсем, то не давило так сильно, словно выветривалось ненадолго. В доме от духоты не спасали распахнутые в морозный день окна, а на природе на душе становилось светлее, чище, прозрачнее. И горизонты будущего взмывали ввысь, как корабельные сосны.
В лесу, у озера, он мог заблудиться и оторваться от преследования прошлого. Выйти за пределы видимости той, что уже никогда не вернётся и потому не способна простить. Прощают живые, а Инга давно мертва.
Когда закованные в гранит набережные города или мрачная духота домашних стен начинали всерьёз действовать на нервы, он ложился на диван у распахнутого хоть в зиму, хоть в лето окна, не чувствуя холода, не слыша барабанной дроби дождя, не внимая ничему вокруг, закрывал глаза и вызывал этот сон…
Огненная полоска над озером, красные угольки костра, тишина, прерываемая редкими всплесками. Лето, озеро, лес, рассвет.
— А что там, за рассветом? — спрашивал брата, тыча в пылающий горизонт удочкой, как указкой.
— Другая жизнь, — отвечал Кирилл.
Разговор во сне повторялся в разных вариациях, но с единым смыслом. Если рыбы не догадываются о нашем существовании, это ещё не значит, что нас нет. Может, они считают нас богами: сыплем в воду манну, ловим и караем неосторожных, вытягиваем на небесный берег. Они могут дотянуться и поцеловать небо, но на берегу им нечем дышать. И нам тоже незачем догонять горизонты. За ними — чужая жизнь, где для нас нет места.
Во сне Марат бросал удочку и уходил бродить вдоль берега. Шёл на рассвет, далеко-далеко. Но всякий раз упирался в невидимую стену. Прочную, словно из непробиваемого стекла. Как слепой, он водил по ней руками, вверх, вниз, кругами. Надеялся нащупать лазейку в зигзагах береговых шхер, но стена изгибалась, как застывшая волна, не пускала внутрь и оставалась невидимой, недостижимой. Марат чувствовал себя пойманным, замкнутым, как в аквариуме, а кто-то недобрый наверху наблюдал за ним и беззвучно смеялся.
Просыпаясь, слышал этот смех наяву. Не замечал, что и в жизни над другими смеётся так же — не понимал, почему окружающих передёргивает, стоит ему кому-нибудь улыбнуться. Впрочем, Марату давно уже не до смеха. Он рвался в сон и боялся, что там, за чертой, его заждались. Инга тоже водит по стеклу руками, и однажды, когда ладони их совпадут, стена, не выдержав разницы температур, треснет и разобьётся. Крови не будет — в руках запылает рассвет.
Сон Джанет: «Источник»
Джанет старательно поддерживала свет, оставленный Ингой во сне. Древесный дом был маяком в тёмном лесу. А маяк не может погаснуть. Он никого не спасёт, но горит всегда, даже для тех, кто не видит далёкий свет.
Прошла сквозь анфилады комнат, зажигая по пути настенные и настольные светильники, шагнула за порог — на поляну. Оглянулась. Позади возвышалось дерево — дуб с кленовыми листьями. Дубы и в природе умеют притворяться. Колдовское, шаманское дерево. Но как ему удаётся вместить внутри ствола, пусть и векового, целый замок? Иллюзия сумрачных пространств.
Поляна перед деревом тоже была освещена. Джанет подумала, луной и светом из окна. В темноту леса уводила тропинка. Поколебавшись немного, решила пойти по ней, узнать, куда приведёт. Лес редел полянами, пока не оборвался на берегу озера. Присела у воды. Волны тихонько накатывали на песчаный берег, что-то шепча и укачивая. Джанет впервые за много лет ощутила во сне покой. Темнота не пугала, от неё защищал тусклый свет, разливаясь повсюду, куда хватало взгляда. Джанет подняла голову и начала всматриваться в горизонт в поисках луны. Но горизонт тонул во мраке, а лунная дорожка по воде бежала от её ног.
Джанет проснулась, вмиг осознав, что единственным источником света в сумрачном мире была она сама.
Сон Романова: «Двоеточие»
Самый яркий свет белого цвета. Кто-то видит в нём начало, кто-то конец. Евгений Романов увидел непреодолимость бесконечности, но продолжал вглядываться в пустоту до рези в глазах, до слёз, пока невидимый, но ощутимый ветер во сне не прорисовал изгибы снежных барханов. Ветер не может дуть в пустоте, ему нужно от чего-то отталкиваться. У Романова получилось вылепить из ничего заснеженную пустыню. Первый шаг сделан.
Далеко впереди маячила чёрная точка. Евгений представил себе человека, бредущего сквозь снега, — и испугался: не дойдёт, замёрзнет и никогда не очнётся. Значит, нужно представить иначе: в чёрной точке — сдвоенный силуэт. Человек и его собака. Если рядом собака, то за него можно не беспокоиться. Оба доберутся домой, где тепло и горит камин, где их любят и ждут.
«Меня ждут. Я и есть этот человек», — подумал Романов.
Но картина всё равно оставалась безнадёжно неполной.
Евгений зажмурился и вновь всмотрелся в белую пелену. Точек должно быть две.
Двое, каждый с собакой, ступают след в след, пролагая дорогу в снегах. Вчетвером они преодолеют всё.
Здесь стоило бы проснуться, но сон не кончался, не отпускал.
«Счастливого конца не будет, любовники никогда не встретятся.
Ибо каждый из них всегда находится у другого внутри»[2], — зазвучала в ветре чья-то далёкая пустынная песня.
Евгений открыл глаза, увидел белый потолок над головой — и заплакал, впервые за много лет.
[1] Евагелие от Матфея. 7:14
[2] Джелаладдин Руми.